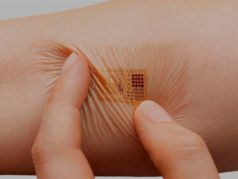Ровно 40 лет моей жизни прошли в эпоху, которая закончилась фильмом "Асса". Родился я 1 Мая и, может быть, поэтому из всей советской пропаганды меня особенно трогала идея интернационализма, почему-то называвшегося пролетарским. Я плакал, читая про Максимку, и мечтал, чтобы все негры из стран, страдающих апартеидом, ехали в нашу страну, в которой, как прямо говорилось в известном фильме, "так вольно дышит человек". Успехи в космосе укрепляли веру в жизненную силу родного социализма, так романтично начинавшегося в 1917, если судить по тогдашним кинофильмам. Социализм представлялся самым справедливым на Земле строем, где благодаря огосударствлению собственности только и возможно было соблюдение интересов, как всего общества, так и каждого человека в отдельности. Конечно, не все в истории сложилось гладко. Хотя историю-то эту мы не больно знали. Про культ личности мне кое-что рассказали родители, донские казаки, но они просили об этом не слишком распространяться: страх еще сидел в них. Отец, военный журналист, был сыном "врага народа", близкие родственники матери попали под раскулачивание. Я не знал не то, что о расстреле офицеров после взятия Крыма, даже про расказачивание – вплоть до "Отблеска костра" Юрия Трифонова, хотя моя малограмотная и полуглухая бабушка по отцу люто ненавидела Сталина. Она не могла толком что-то рассказать, только помянула про целые эшелоны, увозившие заключенных на восток – там и сгинул в 37-м мой дед, колхозный счетовод. Бабушка по матери что-то намекала про голодомор начала 30-х, но так, вскользь, самый-то ужас тогда творился в областях западнее Донщины и к юго-востоку – на Кубани.
Тем не менее, в духе времени я рос романтиком, веря в идеалы "научного переустройства человечества", так что к концу школы решил посвятить жизнь самому главному, как мне казалось, – борьбе за всеобщее и полное ядерное разоружение. Виновник противостояния был очевиден: американский и вообще империализм.
План жизни виделся стрелой, направленной туда, где сам я стоял посреди всеобщего и полного разоружения, а простые люди – рабочие вперемешку с интеллигентами – сбрасывают всю эту радиоактивную и прочую гадость прямо в море, как в оперетте "Вольный ветер". Из математической школы дорога вела в Куйбышевский авиационный институт, оттуда в большую авиацию, оставалось добавить к этому знание иностранных языков – и моя мечта, прямо по нотам официальной идеологии, становилась явью: я буквально автоматически попадал в число борцов за мир во всем мире. Для начала взялся за испанский язык: саднила мучимая франкизмом Испания, к тому же с кубинской революции уже начался "очистительный пожар" в Латинской Америке. Занимался спортом, топтал рвавшиеся наружу стихи (в таком деле они были явно лишними), перевелся в Московский авиационный институт, чтобы быть поближе к главному делу. Здесь было испанское землячество, разговорная практика. И была живая история, ветераны Испанской и Отечественной войны, я выводил "Интернационал" и другие песни на их языке, из президиума мне ободряюще улыбалась Долорес Ибаррури, я был знаком с испанскими диверсантами из партизанского отряда Дмитрия Медведева, автора любимой в детстве книги "Сильные духом", с начальником разведки того же отряда Кочетковым, через него – с майором запаса Марией Фортус, о которой на моих глазах делали фильм "Салют, Мария!" Конечно, помимо здешних испанцев (потом добавились и греки-политэмигранты) приходилось пересекаться с иностранцами, даже с теми, кто работал в подполье, а студентам режимных вузов все это категорически запрещалось. Но светила цель и намечался собственный фронт: надо было разобраться, как обстоит дело с продвижением идей социализма по миру.
Выяснилось, что хуже некуда. Почему-то социализм не обладал настолько привлекательным лицом, чтобы, согласно теории, за нами рванули развитые государства. Все как-то ограничивалось вечно воюющим арьергардом из Африки, переизданием ужасов культа личности в Китае и Кампучии, а у арабов – далее получения званий Героев СССР Бен Беллой и Гамалем Абделем Насером. Грянула арабо-израильская война, после которой начался исход евреев из страны – что больнее всего, интеллигентов, – в 1968 году была раздавлена Пражская "бархатная" революция, началось диссидентское движение, и я оказался между двух стульев. С одной стороны, я по своей натуре был типичным "шестидесятником" и сполна хлебнул хрущевского потепления. Рос на песнях наших бардов, взахлеб читал Вознесенского, Евтушенко, упивался гонимым Пастернаком, потом Солженицыным и на дух не переносил все связанное с культом личности. С другой – меня вела цель прекращения вооруженного противостояния "двух миров", которое не могло не разрешиться в пользу "демократического социализма", олицетворением которого была, опять же, скорее мятежная Прага, чем Москва. То, что главный фронт борьбы проходил совсем по другим азимутам, я сообразил значительно позднее, прочитав книги "хулигана" (по известной частушке ) Владимира Буковского, который в пику таким, как я, лег совсем на другую амбразуру: он-то двигал свободу творчества, плечо к плечу с правозащитниками – это и было настоящей борьбой за достойное будущее.
О моих нарушениях режима во время учебы в МАИ стало известно в момент распределения, когда я со скандалом отказался от "блатного" направления в подмосковный ракетный НИИ. Как-то не хотелось, право, создавать новые виды оружия в виду брезжащего на горизонте разоружения. Устроился на работу на авиаремонтный завод. Учебу где только ни продолжал, надеясь на то, что государство это оценит, и меня пошлют помогать строить социализм за границу. Но тут выяснилось, что для учебы в Дипломатической академии или в Академии внешней торговли, куда, казалось, была прямая дорога – технических специалистов посылали за границу, как правило, именно после учебы в этих заведениях, – я должен был быть
- членом партии,
- женатым.
Членом партии я, проработав на заводе лет пять, наконец, стал – это отдельная песня – но вот с женитьбой подзадержался. Жил у родной бабушки в старом доме под снос, однако законы "самой справедливой и гуманной" страны не признавали близкое родство далее первого колена – не прописывали, не было у меня как бы крыши над головой. Жениться же ради прописки считал делом недостойным, циничные подсказки со стороны вполне официальных органов игнорировал – и до сих пор считаю, что требования женитьбы ради карьеры (а это вовсю практиковалось) аморальны. Так зрел своего рода конфликт с системой, разраставшийся по всем направлениям. Так или иначе, меня, до мозга костей пропитанного идеей мировой революции и делавшего все, чтобы в ней участвовать, система не принимала, выталкивала.
Году в 1975 меня, активного комсомольца, рабкора и ударника комтруда, рекомендовали таки в Высшую школу КГБ. Я был настолько наивен, что начисто игнорировал слухи о системе "стукачества", считая это издержками, а главным делом "передового вооруженного отряда КПСС" – работу с зарубежными компартиями и разведку. Как же я потом благодарил несуществующего Господа за то, что провалился на медкомиссии! Я-то был здоров, как бык, купался в проруби и делал бешеную гимнастику, но срезался на мякине. Попав на, так называемую, "психологическую комиссию", в ответ на вопрос, как я понимаю догматизм (его мне задали, заслышав про нездоровый интерес к работам классиков, а также современных марксистов, включая теоретиков "еврокоммунизма"), не моргнув глазом, разделал под орех соцсоревнование, от которого не было никакого толку, поскольку оно никак не могло подменить собой конкуренцию – мощный мотор технического прогресса. Товарищ, то есть я, никак не хотел понять, что систему ни с какого боку не устраивают критически мыслящие умники, на что мой куратор накануне комиссии намекал открытым текстом: "говори, как в газетах".
К моему тогдашнему недоумению по поводу того, как все-таки может играть судьбой человека его искренность и просто "не так" сказанная фраза, добавилось осознание лицемерия режима. Был самый разгар "застоя", милитаризованная экономика шла вразнос, технологическое отставание от Запада било в глаза, американцы ходили по Луне, специалисты, с которыми приходилось постоянно общаться, сплошь и рядом не могли реализовать свои возможности, – но кадры "свои", в понимании идеологического руководства, должны были петь: "Все хорошо, прекрасная маркиза!".
Тот год стал для меня этапным. Поехал в учебную командировку в Казань на вертолетный завод – наш завод брался за ремонт Ми-8. Упивался старинным городом, читал Сельвинского в центральной библиотеке, ходил в музеи, по камням, где ступали в молодости Лобачевский, Горький, Лев Толстой, Шаляпин. Посетил домик молодого Ульянова, где он жил еще студентом, и испытал буквально нервное потрясение от осознания того, что можно вот так, с учебной скамьи, пойти против системы – и разрушить ее! В то время я имел убеждения "верных ленинцев", считавших, что Ильич хотел, как лучше, но "большеусый" (по Фазилю Искандеру) все испортил, а "большебровый" с его прихлебателями и вовсе завели страну в болото. Так считал, например, капитан 3-го ранга Валерий Саблин, убежденный, что народ готов к восстанию против продажной переродившейся номенклатуры. В 1975 он повел мятежный военный корабль на "колыбель революции" (!), надеясь подать этим пример. Но героический, по сути, подвиг его команды ушел в пустоту: народ ничего не понял, потому что ему наврали: сверху через сеть политучебы был запущен слух, что корабль, мол, захватили предатели и двинули сдаваться на Запад... Генерал Петр Григоренко, известный правозащитник, тоже поначалу стоял на таких позициях, пока его изрядно не замордовали в застенках и "психушках".
В общем, дела виделись как в том анекдоте про Ленина. Оживляют его, значит, ученые. Он первым делом требует: "П’ессу, пожалуйста!" (Читает). – "Еще чего-нибудь, Владимир Ильич?" – "Наденьку!" (Оживляют Надежду Константиновну. Ильич вскакивает). – "Наденька, соби’айся! Едем в Женеву, начнем все сначала!"
Между тем я все еще надеялся пригодиться моей стране и принять участие в "научно обоснованной" и практически осуществлявшейся за большие деньги экспансии социализма. Подтянув португальский, подал рапорт с просьбой послать в Анголу или Мозамбик. И тут произошел странный эпизод. Вызывают для беседы с инструктором ЦК неким Шевелевым. Человек за 40, темные очки. Он внимательно меня разглядывал и после первых же слов, которыми я объяснял свой настрой и намерения (революция, дескать, продолжается, че такого?), заявил: то, что я ему тут разрисовываю, есть... троцкизм. Дитя эпохи, я тогда понятия не имел, что у Троцкого есть работа, которая так по-честному и называется: "Перманентная революция". Инструктор добавил, что он все про меня знает – работай, дескать, на своем заводе и никуда больше не рыпайся. Тут я обозлился: дела явно оказались в каком-то тупике, возможно, на меня кто-то донес, потому что взгляды я не больно-то скрывал, – а что скрывать, разделяли-то их многие! И тогда я сварливо заявил, что будет время, и довольно скорое, когда мы узнаем все, и будет демократия, и мы вытащим страну из болота. Расстались, до омерзения недовольные друг другом. Получалось, что "неизвестные отцы" запрещали мне искать более интересную, а заодно и более оплачиваемую работу. Пришлось уйти из "большой авиации" в виду бесперспективности, а ведь сколько учился: окончил нескольких курсов иностранных языков, школу гидов-переводчиков при бюро молодежного туризма "Спутник", даже институт марксизма-ленинизма и курсы стенографии...
Году в 1981, когда я работал в Центре научно-технического перевода, вдруг предлагают ехать в Венесуэлу: там нашим нефтяникам понадобился инженер со знанием языка. Из Госкомитета по внешним экономическим связям я вприпрыжку прибежал к своему директору Марчуку, племяннику того Марчука, который играл у Братского моря на гитаре, и, сияя, попросил оформить характеристику. Даже неженатого меня брали на год! Поездка была срочная, шли недели, но характеристику никто писать не стал. Потребовал объяснений, на что Марчук извиняющимся тоном сказал: "Это не мы". И все стало ясно: для КГБ я стал "невыездным". Более того, закончив группу международников вечернего факультета журналистики МГУ, я обнаружил, что на работу в АПН, где была вакансия в редакции Юго-западной Европы, а также в разные газеты меня не берут, приходилось пробавляться переводами для еженедельника "За рубежом" и случайной переводческой практикой.
Свирепствовал пресловутый "запрет на профессии", о котором кричала наша пропаганда как о чисто западной мерзости. Но сил-то было хоть отбавляй, так что простить загубленную карьеру и 100-рублевую зарплату государству "переразвитого социализма" не было никакого резону. Нас было таких легион: кто работал дворником, кто сидел "под колпаком", а кто просто не проходил "по 5-му пункту": с престижным трудоустройством были проблемы даже у партийных так называемых "полукровок" – и это при официальном "интернационализме"! Любое активное сопротивление отслеживалось и пресекалось арестом, психбольницей, в лучшем случае высылкой. Не имея возможности выступать открыто, это ударило бы по родным (брат служил в ВМФ), я понимал, что перемены начнутся не раньше смерти Брежнева. А пока мой дом стал интерклубом, куда стайками проходили приятели и друзья, в основном студенты из Португалии, Греции, Кубы, Чили, других стран. Буквально все недоумевали по поводу наших неурядиц, и я терпеливо разъяснял, откуда и чьи уши торчат, обещал, что мы все исправим, предупреждал о возможных ошибках.
Перемены начались – но лишь когда было приостановлено действие статьи 70 УК РСФСР за антисоветскую деятельность. На дворе стоял 1987, и мы, еще не старые волки – интеллектуалы, ринулись "за флажки". Дискуссионные клубы, первые пикеты и демонстрации. Начинали в связке с ленинградским клубом "Перестройка" вместе с Павлом Кудюкиным (будущий замминистра труда), Андреем Фадиным (он потом погиб), Игорем Чубайсом, Олегом Румянцевым, Леонидом Волковым – последние двое стали депутатами на первых альтернативных выборах. У истоков были многие социологи, юристы, экономисты, журналисты. У меня, бывшего технаря, в голове постепенно светлело: Октябрьский переворот представлялся уже не великой революцией, а кровавым узурпаторским режимом, законсервировавшим империю в самом худшем ее обличье – тоталитарном. Был одним из организаторов, выводил на улицы десятки людей, мы все более заполоняли улицы столицы – сотни тысяч! Не пропустил практически ни одной демонстрации, ходил, обвешанный своими маленькими детьми. Двигали "демократическую платформу в КПСС" вместе с будущими депутатами Володей Лысенко, Сергеем Юшенковым (его потом убили), Сергеем Станкевичем. На базе нашего клуба или бок о бок с нами создавались первые оппозиционные партии – в том числе социал-демократическая, нам светили успехи наших европейских коллег. На Западе именно эсдекам в рамках Евросоюза удалось замирить расколотые десятилетиями фашизоидных режимов народы Испании, Португалии, Греции.
Кстати, в разгар общественных дискуссий меня – я еще был членом КПСС – вызвали в районный отдел КГБ. Их кошка знала, чье мясо съела, но в то время мы пробовали вести переговоры даже с "Памятью", а тут уж очень любопытно было прощупать, как на них сказывались перемены. Игра шла с открытыми картами, и я был явно не один, кто нагло повел разъяснительную работу в рядах номинального противника. Разагитировали мы их, короче, и ребята не подвели: в дни августовского путча они не стали исполнять приказы Крючкова, а просто... перепились, выйдя из игры. Могло быть худо: гвардия Чаушеску, например, отстреливалась до последнего патрона, а с самим диктатором было еще хуже – его казнили без суда и следствия. Потом их отделы расформировали, а я на прощанье поинтересовался, за что же тогда, в 70-е, меня взяли "под колпак". Нетрудно было и самому догадаться: были перлюстрированы письма, в которых я писал друзьям о пороках режима и возможных способах борьбы.
Ну, а дальше по тексту: дети были маленькие, зарабатывать в журналистике не было возможности, и хлебнул я по самое не могу. Взрыв цен, безработица. Языки оказались вообще не нужны: обращался на ряд предприятий, где давали от ворот поворот уже по возрасту. За рубеж на заработки уехать не мог: семья развалилась, дети остались на мне, чем только ни приходилось заниматься, но я их вытянул. Правда, на повестке дня сегодня высшее образование, тут бы и найти хорошо оплачиваемую работу за границей, потому что здесь, в России, как-то не получается. К тому же мы с детьми перестали помещаться в коммуналке, куда я попал после развода. Заработать на квартиру при нынешних ценах невозможно; ждать, пока расселят – скорее состаришься. Пока приходится заниматься, помимо журналистики, репетиторством да еще переводить книги для разных издательств.
История любит рамочные конструкции. Совсем недавно звонят мне с того самого Казанского вертолетного завода, предложили лететь... в Венесуэлу переводчиком. Нашли меня через Интернет. Я был польщен: надо же, "вычислили". Насколько мне известно, в МАИ испанцы если и учились, то единицы и лишь в 50-е, тогда там принимали даже китайцев, потом в "ракетном колледже" на дух никого не осталось, родных евреев и тех брали со скрипом, после 67-го-то. Короче, я был уникальным испано-язычным авиационным инженером, помимо, конечно, тех, кто работал когда-то на Кубе. И вот, благодаря команданте Уго Чавесу, представилась возможность вернуться к моей первой специальности. Зарплата включает командировочные и может быть вполне достаточна для продолжения образования обоих детей, уплаты многолетних долгов, да и проблема с жильем на время ожидания квартиры была бы решена. Я согласился без раздумий, меня торопили уволиться с работы и ехать в Казань для оформления в штат. Дома как раз гостила моя знакомая из Казахстана, которая делает в Москве закупки для своего бутика. "Обманут", – всплеснула руками она, основываясь чисто на торгашеском опыте. Я возмутился: как можно, да это же технари, народ надежный, родня моя, можно сказать.
В Казани встретили на машине, повезли на завод к заместителю директора по персоналу, который и должен был решить вопрос о командировке. Где-то вдали уже грезилось Карибское море, разговоры "за жизнь" с венесуэльцами, репортажи для наших демократических газет (между делом, конечно, и, вероятно, лишь с дозволения начальства) рассказы, стихи... Фамилия замдиректора Иванов – на ней, по Симонову, "наша земля держится". Заходим вместе с начальником цеха и моим куратором Виктором, ведшим со мной переговоры. Товарищ Иванов Б.В. начинает задавать вопросы, из которых мне как-то не сразу стало ясно, что у них тут "мало, что изменилось", хотя об этом было вскользь помянуто. По простоте душевной я и раньше-то никогда не считал нужным скрывать свои взгляды, – а тем более сейчас чего ради? И вот он говорит: мы вас-де еще плохо знаем, посылаем пока на полгода, да и вы нас плохо знаете. Я возразил: почему же не знаю, если сам вышел из вашей среды. "Там, в Каракасе, – замечает он, – все строго, ничего такого позволять себе нельзя". Видимо, думаю, то, что я журналист – не в счет, писать может каждый, основное, что их беспокоит, это не закладываю ли "за воротник". Да я, отвечаю, вообще-то, не пью. Тут Иванов закрутил головой: если б вы знали, говорит, сколько людей сидело на вашем месте и заявляло то же самое!
Молчу, думаю: ты же, дядя, постарше меня и поседее, это твои проблемы, профессиональный кадровик – и не чувствует, когда говорят правду. Слово за слово, разговор, вроде, подошел к концу, но свербело у него что-то. "А почему это вы до сих пор за границей не работали?" – спрашивает. И тут я получил возможность уже в который раз в своей горькой правдолюбивой жизни убедиться, насколько неосторожная фраза может повлиять на судьбу, а в данном случае на наше с детьми материальное благополучие. Нет, чтобы сказать сущую, в общем-то, правду: да предлагали мне не раз идти во всякие академии, но не женат я был! Прописки не было, а из карьерных соображений и так далее. Но вместо этого я, рот до ушей, рассказываю, как меня уже однажды посылали в Венесуэлу... Штирлиц, то есть Иванов Б.В., насторожился. "Ну, в таком случае, – говорит, – я беру тайм-аут, надо подумать, надо подумать..." А чего тут думать: уникальный специалист, стажировку у них проходил, переводчик позарез нужен, с работы уволился, приехал за свой счет на последние деньги... Виктор потом в коридоре отдал мне за билеты: извини, дескать, придется тебе еще раз сюда приезжать и тогда уже лететь прямо отсюда. А я уже нутром чую: не придется.
Походил по Казани, город не узнал. У Кремля памятник мятежному татарскому герою, который собираются отсюда передвинуть: не нравится чем-то он шаймиевским чиновникам. Рядом "левый" пикет с угрозой "оранжевой революции" в Татарстане. Далее улица пряничная для туристов, свернул я с нее и пошел обратно на вокзал. К утру был в Москве. В результате проведенной операции потратил на 600 р. больше (плацкарты не было), потерял несколько уроков, это уже в копеечку. Обещанные для ответа полторы недели пролетели быстро, потом еще две...
И я вспомнил. Тогда, в 1976 в Казани, потрясенный дерзостью молодого Ульянова, я засиделся допоздна в библиотеке, а потом в заводском общежитии – писал своему другу Вите Монахову, гостившему в моем доме в Москве. Получилось длиннющее письмо, которое не влезло в один конверт, пришлось запечатать в два. И вот представьте: из авиационного городка режимного предприятия режимного города СССР поступают на местную почту два одинаковых пухлых конверта... Соображаете? Какой шухер стоял в 1-м отделе этого завода, где изучали мое письмо на наличие чертежей и прочих шпионских сведений (может, тот же Иванов, только на 30 лет моложе), и далее по инстанциям! Лично я тогда не соображал, настолько был озабочен губительным для страны явлением "брежневщины", а еще технологией демонтажа всего этого безобразия. Письма-то дошли, но именно после этого случая – все сходилось – мы с Витей попали "под колпак". Он долго тогда не мог поступить в аспирантуру, но потом все-таки проскочил. А я никуда не проскочил – разве что в демократическое движение, куда потом именно Монахов и завлек меня (в 90-е годы он стал председателем Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ).
А завод таки меня обманул. Надо теперь обратно куда-то на работу устраиваться. Прежнее место занято, на носу пенсия... Может, в суд на них подать? Это же надо: страна в 90-е потеряла около 900 тысяч специалистов, а эти "гаврики" по новой вернулись к сталинско-брежневской кадровой политике, к старой системе координат. И не важно, даже, кому служит этот Иванов – остался ли просто "комунякой" или ревностно защищает корпоративные интересы силовиков, новой продажной номенклатуры, – только я, специалист со знанием нескольких языков, который не покинул Родину в эпоху крутых перемен просто потому, что не мог бросить детей, показался ему ненадежным и опасным в силу прирожденного казацкого вольнодумства и неизгладимого простодушия. Видимо, как была у этих людей некая особая "государственная" мораль, так и осталась.
История, повторяю, любит рамочные конструкции: если по первому разу нечто происходит как трагедия, то потом это оборачивается фарсом. Результатом моей несостоявшейся в 1981 поездки в Венесуэлу было то, что я хоть не намного, хоть на час или минутку, но приблизил падение антинародного режима. А теперь что мне делать, если опять не дают нормально оплачиваемую работу, в которой я был бы, как рыба в воде? Если в стране правит распоясавшееся коррумпированное чиновничество, народ по-прежнему нищ, и ему дурят башку, малый и средний бизнес задавлен, зато вновь поднимает голову ВПК (и за счет чего? – на нефтедолларах!). – Правильно, начнем все с начала. Так что, товарищ Иванов: как и тогда ваши коллеги, вы все сделали с точностью до наоборот. Ну, улетел бы я в Венесуэлу, стало бы как-то не до демонтажа нынешнего вашего режима. Работал бы себе – уж это я умею, было б где, – деньги зарабатывал. А теперь придется, сколько осталось сил, долбать нынешнее безобразие, оно, кстати, похлипче будет – то, советское, 70 с лишним лет держалось...
Вы можете оставить свои комментарии здесь